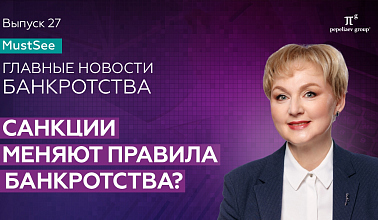Отвечая на данный вопрос, хотел бы начать с того, что любой механизм обеспечения лекарствами населения целесообразен при условии, что он позволяет а) обеспечить большую доступность лекарственной терапии, б) оптимизировать использование бюджета на приобретение препаратов, в) не ведет к безосновательному ограничению конкуренции на рынке. В этом смысле, у механизма risk sharing безусловно есть потенциал соответствия указанным критериям. Однако, это сильно будет зависеть от правовых рамок, в которых этот подход будет внедрен. Скажем, не все механизмы в их текущем исполнении одинаково хорошо «приживаются» на отечественной почве – например, нельзя сказать, что фармацевтика или любая иная отрасль исчерпали возможности таких механизмов как СПИК, офсетный контракт и т.д.
Если более предметно говорить про risk sharing в контексте государственных закупок лекарственных препаратов, то необходимо отметить, что, конечно, это, с одной стороны усложнит работу государственных заказчиков и регулятора по организации торгов и контролю за исполнением заключенных контрактов. С другой стороны – это даст возможность более гибко подходить к расходованию бюджета, а также обеспечивать пациентов более эффективной терапией.
Представляется, что использование risk sharing модели может быть оправданно в первую очередь при закупке инновационных препаратов для лечения заболеваний, входящих в ВЗН, но также и для иных дорогостоящих оригинальных препаратов, применение которых может быть связано со значительным риском неэффективности терапии. Вопрос заключается также в том, в каких сегментах такого рода модель будет восприниматься как более эффективная не только государством, но и фармацевтическими компаниями. То есть, очевидно, что ни один из игроков на рынке не будет строить стратегические планы по продаже товаров в убыток. Если компания-поставщик берет на себя риски, связанные с неэффективностью конкретной лекарственной терапии, то взамен она вправе рассчитывать на дополнительные условия, делающие бизнес рентабельным – например, определенный обязательный объем закупки, более длительный срок действия контракта и т.д. Полагаем, что в этом направлении следует искать ответ на вопрос, ранее часто адресуемый представителями ФАС к инициаторам обсуждений внедрения новых практик в процедуры госзакупок лекарств: почему risk sharing модель не распространена в коммерческой медицине в России?
С точки зрения юридического оформления механизма risk sharing необходимо отметить, что это потребует внесения изменений не только в 44-ФЗ и подзаконные акты, но также и в акты отраслевого регулирования, например, в части регулирования ценообразования на ЖНВЛП, нормативные акты, определяющие оценку эффективности лекарственной терапии и т.д.
Базово, уже на этапе концепции, необходим широкий консенсус как минимум по двум направлениям:
1) основания для проведения торгов на заключение контракта по такой модели (когда предложенная модель может применяться взамен «классических» способов контрактования). Например, если мы говорим про поставки оригинальных препаратов, находящихся под патентной защитой, проведение торгов как таковых в принципе стоит под вопросом при условии наличия у непосредственного владельца препарата (разработчика и/или владельца РУ в терминологии ФЗ-61) интереса в заключении прямого контракта на поставку фармацевтической продукции. В этом случае более логичной кажется закупка у единственного поставщика, при которой условие по цене является предметом переговоров в рамках закупки. При этом, масштабировать такое решение на более конкурентные рынки (напр., в случае наличия двух и более зарегистрированных препаратов в рамках одного МНН, лекарственной формы и дозировки) будет недопустимым с точки зрения законодательства о защите конкуренции.
2) особенности исполнения контрактов (как, кем и в каком порядке будет определяться эффективность лечения и, соответственно, итоговая стоимость контракта). Процесс принятия решений относительно итоговой стоимости поставленных препаратов должен быть максимально прозрачным как для гос.заказчика, так и для участников тендера (поставщиков) – в противном случае эффективность risk sharing модели может значительно снизиться (напр., поставщик не будет заинтересован участвовать в торгах, если не может быть уверен в непредвзятости и понятности метода оценки эффективности терапии), могут также увеличиться коррупционные риски при заключении и исполнении такого рода контрактов, что абсолютно недопустимо и сводит на «нет» потенциальный положительный эффект от внедрения более гибких механизмов в сегмент гос.закупок лекарственных препаратов.