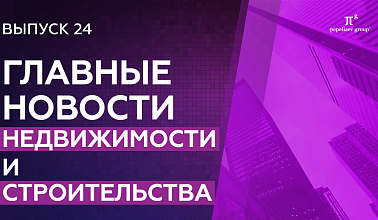Уже не раз важные для российских налогоплательщиков нормы неожиданно попадали в тексты законопроектов при их рассмотрении Думой во втором чтении. Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев считает, что подобная практика возможна из-за неуважения к понятию «концепция законопроекта», и показательным здесь является недавнее решение Конституционного суда по делу о повышении судебных пошлин.
Качество российского налогового законодательства давно вызывает вопросы, и по поводу «расползания» налогов по непрофильному законодательству, и по формированию параллельной системы всякого рода обязательных платежей, и по некоторым другими сюжетам.
Во многом подобные проблемы возникают из-за возникшей примерно десятилетие назад практики вброса существенных налоговых поправок при рассмотрении законопроектов во втором чтении. Например, в 2014 году Госдума рассматривала законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами». Ко второму чтению — 11 декабря 2014-го — в тексте появились нормы об установлении с 2015 года экологического сбора. В том же году Госдума приняла федеральный закон о торговом сборе — нормы об этом платеже появились в тексте ко второму чтению, хотя первоначальный законопроект был посвящен администрированию НДС, налога на доходы физических лиц и налога на прибыль.
Внезапное внесение поправок рассчитано на эффект неожиданности — оппоненты не успеют собраться и вскочить даже в последний вагон хорошо управляемого поезда. Между тем статья 75.1 Конституции, утвержденная среди конституционных поправок 2020 года, установила, что в России создаются условия для взаимного доверия государства и общества. На этом положении основан один из элементов публичного порядка — принцип добросовестности.
Расширенное чтение
Техничный вброс во втором чтении поправок, радикально меняющих законопроект, нельзя признать добросовестной практикой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в свое время называла резкое изменение концепции законопроекта во втором чтении явным нарушением и даже «мошенничеством».
Но с подобной позицией не согласился Конституционный суд, рассмотревший недавно дело о молниеносном повышении судебных пошлин в 2024 году. Ключевой темой стал вопрос о содержании концепции законопроекта и правовой возможности ее изменения во втором чтении, поскольку поправки о пошлинах появились именно на этой стадии законотворческого процесса.
Позиция КС предельно проста: чтобы судить о содержании концепции, достаточно прочитать название законопроекта — «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты…» Вся концепция в том и состояла, чтобы урегулировать широкий круг разнонаправленных фискальных вопросов. Вплоть до финального голосования такой законопроект можно шпиговать чем угодно, лишь бы он относился к общей сфере налогов и сборов. Если вы пришли на «Онегина», а вам спели арии из «Сусанина», не возмущайтесь: и то и другое — опера.
Такой подход кажется явным упрощением, далеким от правовой и житейской действительности. Ежегодно изменения в Налоговый кодекс вносятся несколькими десятками законов. За все годы существования Кодекса насчитывается несколько сотен изменяющих и дополняющих его законов с типовыми названиями. Если следовать логике Конституционного суда, то у сотен налоговых законов концепция одна и та же — внесение разнонаправленных изменений отраслевой тематики. Но это попросту означает, что самой концепции нет. В действительности названия этих законов указывают только на отраслевую направленность изменений — на акты, в которые вносятся поправки. Никакой содержательный аспект в названиях поправочных законов не отражен.
Гарантия для законодателя
При этом Конституционный суд совершенно верно указывает, что установление налогов и сборов без учета их экономической обоснованности и соразмерности противоречит целям социального государства. Очевидно, что добросовестный и ответственный законодатель при рассмотрении законопроекта должен перед голосованием установить соответствие новелл этим требованиям. А обязанность представить подтверждения лежит на субъекте законодательной инициативы. Как эта обязанность должна исполняться, определено ст. 105 Регламента Госдумы: при внесении законопроекта должна быть представлена пояснительная записка к нему, в которой указывается предмет законодательного регулирования. Именно этот документ и является источником сведений о концепции законопроекта. Эта статья Регламента имеет значение нормы-гарантии, развивающей положения Конституции и обеспечивающей их исполнение. К ней нельзя относиться как к сугубо техническому процедурному требованию.
К тому же эта норма симметрична ст. 104 Конституции. Она предусматривает, что законопроекты о введении или отмене налогов могут быть внесены только при наличии заключения правительства. В нем должны быть приведены все данные, необходимые депутатам для принятия налогового закона, в том числе по вопросам соблюдения конституционных требований экономической обоснованности и соразмерности. Поэтому право правительства представить заключение одновременно является и его обязанностью — это гарантия стабильности и инструмент против популизма.
В наиболее развернутом виде содержание понятия «концепция законопроекта» определено постановлением правительства о законопроектной деятельности. Концепция должна быть раскрыта в отдельном документе весьма четко и детально. Среди прочего необходимо определить положения Конституции, федеральных конституционных законов и системообразующих законов, на реализацию которых направлен данный законопроект, просчитать социально-экономические, политические, юридические и иные последствия его принятия.
Правовой контекст
Конституционный суд ссылается на свое определение 2016 года по делу о введении торгового сбора. Суд специально подчеркнул — совершенствование законодательства исходя из потребностей правоприменительной практики и есть содержание концепции. Но было бы странно, если бы законопроектная деятельность вообще не учитывала потребности правоприменительной практики и ее целью была деградация законодательства. Следовательно, эти требования предъявляются к абсолютно любому законопроекту как базовые начала. Это причина и общее направление разработки сначала концепции, а затем и текста законопроекта.
В тексте нового апрельского постановления по делу о повышении пошлин Регламент Думы даже не упоминается, нормативное определение понятия «концепция законопроекта» вообще не исследуется. Вероятно, по причине, на которую указывает сам Конституционный суд: суд не связан обязанностью интерпретировать любое нарушение процедуры принятия федерального закона как свидетельство его неконституционности, иначе это будет проверка на соответствие уже не Конституции, а иным нормативным правовым актам.
Но когда эти нормативные акты фактически восполняют лапидарность текста основного закона, развивают его положения в важнейшей законодательной сфере, то отмахнуться от их положений только на том основании, что они не записаны в Конституции, совершенно неправильно.
Надо вспомнить, что у Конституционного суда была и абсолютно диаметральная позиция по проблеме поправочного экстремизма. Еще в 2001 году суд замечал, что «изменение концепции акта не может происходить на этапе внесения поправок к нему», и делал вывод, что «нарушение требований к чтениям в законодательной процедуре, приводящее к искажению изначального волеизъявления и тем самым влияющее на судьбу акта в целом <…> свидетельствует о неконституционности акта не только по порядку принятия, но, в конечном счете, и по его содержанию». С этой твердой позиции суд постепенно отступил.
Нечеткостью положений думского Регламента и отказом Конституционного суда дать конституционно-правовую оценку его статьям уже много лет с удовольствием пользуется Минфин, продвигающий непопулярные инициативы в упрощенном и ускоренном порядке. Похоже, что такая практика будет только развиваться.