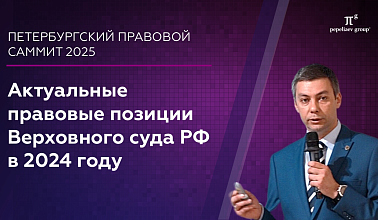Казалось бы, нет ничего сложного: частное право основано на принципе «можно все, что не запрещено». И напротив, публичное право основано на подходе «можно только то, что разрешено». Например, офицер ГИБДД не может проверить, чистили ли вы зубы утром, так как это не разрешено ему законом. Поэтому если в законе нет указания на то, что любые отступления от регулирования, содержащегося в норме, запрещены (обычно это выражается словами «соглашение об ином ничтожно»), то норма должна рассматриваться как диспозитивная.
Однако в наших современных условиях всё оказалось значительно сложнее. Проблема была унаследована из советского прошлого. Советское гражданское законодательство, разумеется, никакой свободы договора не признавало, более того, исходило из того, что отступления от норм советского законодательства возможны только тогда, когда оно – законодательство – само это позволяет. В частности, именно для советского юридического метода была характерна такая юридическая техника: чтобы подчеркнуть диспозитивный характер нормы, советский законодатель включал в нее слова «если иное не предусмотрено договором». Соответственно, нормы, в которых соответствующая оговорка отсутствовала, рассматривались как императивные.
Этот подход радикально противоречит идее о том, что в гражданском праве «можно всё, что не запрещено». Наоборот, он, скорее, основан на принципе «можно только то, что разрешено». Однако это принцип не частного, а … публичного права! Видимо, именно поэтому здесь же уместно вспомнить легендарную фразу В.И. Ленина (кстати, юриста по образованию) о том, что «мы ничего частного в нашем хозяйстве не признаем, у нас всё публичное».
Но вернемся в отечественные законодательные реалии.
Полная версия статьи доступна подписчикам портала ШОРТРИД